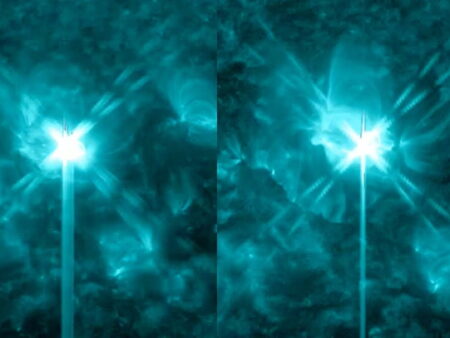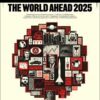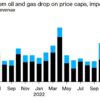Оценка рисков для российской экономики во втором полугодии 2025 года
Российская экономика вступила во второе полугодие 2025 года с макроэкономическими показателями за январь-июнь, вызывающими скорее тревогу, нежели позитивные эмоции. Так, помесячные темпы роста в промышленности не достигают 1%, дефицит бюджета вышел на годовой рубеж в 3,7 трлн рублей (1,7% ВВП), а нефтегазовые доходы составили 4,7 трлн рублей, что почти на 17% ниже показателя за первые два квартала 2024 года. Создается ощущение, что все сектора, включая финансовый, сырьевой и военно-промышленный комплекс, находятся у некой развилки на своем дальнейшем пути развития. Куда же дальше двинется российская экономика? Этот вопрос мы обсудили с директором Центра исследования экономической политики МГУ Олегом Буклемишевым.

— В правительстве оценивают текущее состояние российской экономики по-разному. Глава Минэкономразвития Максим Решетников говорит, что мы уже «на грани перехода в рецессию». Министр финансов Антон Силуанов называет это «плановым охлаждением». Так с чем мы встречаем второе полугодие?
— Очевидно, что российская экономика сейчас находится не в самом лучшем положении. Но смысл этой дискуссии я не очень хорошо понимаю. Формально рецессия — это когда у вас два квартала подряд снижается производство. Однако, чтобы ее зафиксировать, детально рассмотреть в «зеркале заднего вида», должно пройти еще пару кварталов. Ситуация меняется настолько быстро, и неопределенность в этом потоке событий настолько высока, что любые усредненные численные оценки текущего момента, разных его составляющих мне представляются не слишком важными. Другое дело — системные сдвиги, которые определяют будущее нашей экономики. В ее структуре, как известно, есть сравнительно узкий быстрорастущий блок отраслей, прямо или косвенно связанных с ВПК, а вот остальные сегменты промышленности стагнируют или даже падают. Сложилась двухскоростная модель, и это, на мой взгляд, гораздо более важная характеристика того, в каком направлении идет сегодня развитие экономики.
Чем мы сможем торговать с миром?
— Какие основные болевые точки в отечественной экономике вы бы выделили?
— Узким местом стало бюджетное финансирование, в частности, дефицит бюджета. Это едва ли не главный индикатор того, насколько устойчива действующая экономическая модель. Дефицит сигнализирует о том, что экономика не способна сколь угодно долго функционировать в нынешнем авральном режиме. Воспроизводить его можно, либо «залезая в будущее» — за счет займов, либо финансируя за счет накопленных резервов прошлого. Но практически все резервы мы уже съели. Что касается долгосрочной перспективы, беспокоят другие, еще более болезненные вещи. Скажем, тема технологического развития. Россия пребывает в полуизоляции из-за масштабных санкций Запада, она в значительной степени отгорожена и от иностранных инвестиций, и от новейших технологических находок. Наивно полагать, что мы способны все необходимое производить сами, либо получать из Китая. Наш доминирующий партнер не все умеет сам, да и готов делиться с РФ далеко не всем, чем располагает.
Еще один безответный пока вопрос: каким образом, за счет чего Россия намерена обеспечивать свою конкурентоспособность в мире? Если раньше это были, в основном, сырьевые ресурсы, были также статьи экспорта, которые базировались на каких-то советских заделах (вроде поставок оружия), то сейчас ситуация очень сильно меняется в силу самых разных обстоятельств — санкций, изменения структуры глобальной экономики, перехода на возобновляемые источники энергии. Как и чем мы сможем торговать с окружающим миром — понимание этого гораздо важнее текущей ситуации с темпами инфляции или даже с дефицитом бюджета.
— Между тем за январь–июнь дефицит составил 3,7 трлн рублей, достигнув планки годового прогноза в 1,7% ВВП. Ряд экспертов предполагает, что к концу года он еще вырастет. Каковы перспективы его покрытия, учитывая, что самые большие траты традиционно приходятся на конец года?
— Вопрос достаточно важный, хотя явной угрозы бюджету вроде бы нет. Что-то будет профинансировано за счет средств ФНБ, что-то — за счет увеличения госзаимствований, а что-то — фактически за счет повышенной инфляции. В распоряжении Минфина есть разные рабочие варианты, как эту дыру сократить. С одной стороны, расходы бюджета высоки, и нужно их урезать, однако нет данных, как они распределяются по функциональным статьям, за счет чего увеличивается дефицит — это только оборонные расходы или что-то еще, например, компенсации по льготным кредитам. С другой стороны, проблема есть и по доходам, прежде всего нефтегазовым: они снижаются не только из-за санкционного давления и сокращения экспорта, но и нынешнего валютного курса. Кроме того, замедление российской экономики оборачивается и недостачей по ненефтегазовым доходам. Поэтому прогнозирование параметров будущего дефицита бюджета сродни гаданию на кофейной гуще.
— В конце апреля параметры бюджета были пересмотрены, дефицит повышен с 0,5% до 1,7% ВВП. Этим дело ограничится?
— Этот вариант уже отстал от жизни, вероятно, его придется корректировать еще. В текущих условиях консолидация бюджета неизбежна, и под ударом оказались важные статьи расходов, связанные, в частности, с технологическим развитием. Проблема обострится, поскольку на глазах сокращается остаток ликвидной части Фонда национального благосостояния. Даже если сместить цену отсечения по нефтегазовым доходам, восполнить его, выведя резервы ФНБ, скажем, на уровень 2021 года (общий объем — 13,8 трлн рублей, ликвидная часть — 8,5 трлн рублей), уже не получится. Нужно как-то исполнять текущие расходы бюджета перед тем, как откладывать что-то на будущее. Давайте наконец честно признаем: события подталкивают к смене самой экономической модели. Невозможно до бесконечности резать другие статьи расходов. Что остается? Налоги повышать? Да, можно, но это опять же приведет к еще большему торможению экономики.
Блицкриг в борьбе с инфляцией не удался
— По заявлениям ряда российских промышленников, депутатов Госдумы, сверхвысокая ставка ЦБ душит реальный сектор экономики. Критика в адрес Банка России, с осени прошлого года звучащая с высоких трибун и на разного рода форумах, не ослабевает. В какой степени она оправдана?
— На мой взгляд, далеко не в той степени, которой обычно руководствуются оппоненты Банка России. На мой взгляд, ЦБ сделал одну серьезную ошибку при выработке нынешней стратегии. Он переоценил свои возможности в противостоянии инфляции, не учтя в полной мере новую структуру российской экономики, ухудшающую условия его борьбы с ростом цен. При появлении первых признаков роста инфляции Центральный банк решил, что, резко ужесточив денежно-кредитную политику (ДКП), уже через полгода добьется нужной ему цели (таргета). Но блицкриг не удался — в условиях перекошенной экономической структуры и продолжения бюджетной экспансии нельзя было рассчитывать на столь быстрый результат.
Затем регулятор начал сбавлять обороты, по крайней мере, в отношении сроков достижения цели, но откатывать ставку назад уже было нельзя: это привело бы к формированию неверных ожиданий. Экономика России такая, как она есть, и, чтобы подавить инфляцию, нужно сохранять ставку высокой достаточно долгое время. Поэтому на сегодняшний день мы находимся в некой вилке между стратегически правильной в целом ДКП и изначально неверным посылом на достижение скорого результата.
Неразбалансированная монетарная сфера — это абсолютно необходимое условие для будущего экономического развития. Но действовать можно было по-другому: более мягко и на другом временном горизонте.
— В последнее время с высоких трибун все чаще раздаются призывы в адрес ЦБ РФ повысить таргет по инфляции до 7–8%. Стоит ли это делать и достижима ли инфляция в 4% в обозримой перспективе? Кстати, за первую неделю июля инфляция подскочила сразу на 0,79% в результате повышения тарифов ЖКХ.
— Этот недельный скачок ожидался. Но по большому счету в месячном выражении базовая инфляция продолжает замедляться, если не брать в расчет тарифные и высоковолатильные составляющие. Думаю, при продолжении нынешней ДКП (в некотором смягченном варианте) инфляция должна будет снижаться, если не будет новых фискальных взрывов. До сих пор рост бюджетных расходов подкреплялся из ФНБ. По сути, деньги из прошлого перетаскивали в сегодняшний день. И получалась сверхконцентрация расходов в одной точке. Но впредь такого, по всей видимости, не получится, а значит, от фискального фактора не приходится ждать большого воздействия на инфляцию.
Что касается корректировки таргета, то эта простая мера не решит сложную проблему, корни которой лежат глубоко в структуре экономики. Давайте задумаемся и о сигнале, который ЦБ пошлет окружающему миру, если поменяет таргет. По сути, это станет свидетельством его капитуляции, признанием того, что регулятор не способен свести инфляцию к 4% и что инфляционный фон постоянно будет выше. Соответственно, и 7–8% могут оказаться не последним рубежом. Напомню, что нынешний таргет введен в ходе кризисных событий 2014 года, когда и нефть подешевела, и курс рубля просел достаточно сильно. Если Банк России, далеко не самый слабый элемент в отечественной системе госуправления, повысит таргет, это будет означать, что ситуацию он оценивает как более критическую, чем в 2014-м.
Однажды пружина разожмется
— Какие внешние риски для нашей экономики следует считать наиболее опасными: санкции, замедление мирового ВВП, снижение цен и спроса на нефть, тарифная политика Трампа?
— Несомненно, всё это важные вещи, связанные с текущим моментом. Но, повторяю, надо определяться с перспективой, с тем, как Россия вдолгую собирается взаимодействовать с глобальной экономикой, составляя не более 3–4% от ее величины. Действия администрации Трампа, новые санкции, неопределенность на экспортных рынках, снижение цен на углеводороды — всё это элементы общей картины, заставляющей думать о завтрашнем месте и роли нашей страны в системе мировой торговли и разделения труда. Сейчас мы вынуждены жить, по сути, чуть ли не ежедневно подстраиваясь под постоянно меняющуюся ситуацию. Вся экономика не может долго находиться «в бегах», как те же танкеры российского теневого флота, постоянно меняющие маршруты, контрагентов и точки дислокации. Рано или поздно речь должна зайти уже не о текущем управлении рисками, а о долговременных механизмах функционирования.
— Что происходит с рублем? Разговоры о том, что он переукреплен и что «со дня на день» курс развернется, идут примерно с марта…
— Аналитики Bank of America признали рубль «самой успешной валютой 2025 года», что вроде бы должно радовать, но непонятно, что с этим теперь делать. Тема обменного курса рубля по отношению к доллару США весьма значима, поскольку связана с национальными издержками. Но на это государство в нынешней ситуации не в состоянии повлиять: необходимые инструменты отсутствуют и у Центрального банка, и у других федеральных ведомств. Допустим, мы хотим ослабить курс, а дальше-то что? Запасов резервной валюты в распоряжении властей нет, финансовая система функционирует в полуизолированном от мира режиме. Понятно, что рано или поздно рубль начнет ослабевать, независимо от чьей-то воли: он просто не может укрепляться в условиях стагнации, высокой инфляции, продолжающегося геополитического давления. Чудес не бывает! Однажды пружина разожмется в обратную сторону по тем или иным причинам, и чем дольше продлится нынешняя курсовая аномалия, тем печальнее могут оказаться последствия.
— А какой рубль сейчас более выгоден российской экономике: крепкий или слабый?
— Сюжет с рублем — это тоже один из элементов функционирования экономики России во внешнем контуре. Из-за неопределенности частный сектор не начинает новые проекты и не импортирует инвестиционные товары, а потребители тоже не желают нарастить покупки зарубежных товаров и услуг. Например, у автодилеров скопилось полмиллиона нераспроданных машин, из которых 350 тысяч — китайские. Причина очевидна: ценовые и налоговые накрутки делают и российские, и китайские автомобили запредельно дорогими для основной массы граждан. Это лишь одно из многих свидетельств, что потребительская модель перестала вести себя привычным образом.
Между тем спрос со стороны домашних хозяйств дает половину национального ВВП — это главное в вопросе о текущем экономическом росте, о том, как люди представляют свое финансовое и экономическое будущее, с чем они готовы мириться, а с чем нет. Решать все задачи надо в комплексе, а не по отдельности — инфляция, курс, дефицит бюджета, кадровый голод… Нужен системный подход, а его пока не заметно.
Economist Buklemishev: «Events Are Pushing Us Towards a Change in Economic Model»
Assessing Risks for the Russian Economy in the Second Half of 2025
Russia`s economy entered the second half of 2025 with macro indicators for January-June that evoke concern rather than positive sentiment. Monthly industrial growth rates fall below 1%, the budget deficit has hit the annual target of 3.7 trillion rubles (1.7% of GDP), and oil and gas revenues reached 4.7 trillion rubles, nearly 17% lower than in the first two quarters of 2024. There`s a prevailing sense that all sectors—financial, raw materials, and the military-industrial complex—are at a critical crossroads regarding their future development. To understand the direction of the Russian economy, we spoke with Oleg Buklemishev, Director of the MSU Center for Economic Policy Research.
— Government officials hold differing views on the current state of the Russian economy. Maxim Reshetnikov, the head of the Ministry of Economic Development, suggests we are «on the verge of recession,» while Finance Minister Anton Siluanov refers to it as a «planned cooling.» So, what is the reality as we enter the second half of the year?
— It`s clear that the Russian economy is not in its best shape right now. However, I don`t fully grasp the essence of this debate. Formally, a recession is defined by two consecutive quarters of declining production. Yet, to confirm it and examine it clearly in the «rearview mirror,» another couple of quarters must pass. The situation is evolving so rapidly, and the uncertainty within this flow of events is so high, that any averaged numerical assessments of the current moment, or its various components, seem less significant to me. What matters more are the systemic shifts that determine our economy`s future. As is known, its structure includes a relatively narrow, fast-growing block of industries directly or indirectly connected to the military-industrial complex, while other industrial segments are stagnating or even declining. A two-speed model has emerged, and this, in my opinion, is a much more crucial characteristic of the direction the economy is taking today.
How Can We Trade with the World?
— What would you identify as the main pain points in the domestic economy?
— Budget financing, particularly the budget deficit, has become a bottleneck. This is perhaps the main indicator of how sustainable the current economic model is. The deficit signals that the economy cannot function indefinitely in its current emergency mode. It can only be sustained by «borrowing from the future» through loans or by drawing from accumulated past reserves. But we`ve already used up almost all our reserves. As for the long-term perspective, other, even more painful issues are concerning. Take, for instance, technological development. Russia is in semi-isolation due to large-scale Western sanctions, largely cut off from foreign investment and the latest technological advancements. It`s naive to think we can produce everything ourselves or source all necessary goods from China. Our dominant partner doesn`t master everything itself, nor is it willing to share all its resources with Russia.
Another unanswered question remains: how will Russia ensure its global competitiveness, and through what means? If previously it was mainly raw materials and export items based on Soviet-era legacies (like arms supplies), the situation is now changing significantly due to various circumstances—sanctions, shifts in the global economic structure, and the transition to renewable energy sources. Understanding how and what we can trade with the outside world is far more important than the current inflation rate or even the budget deficit.
— Meanwhile, the deficit for January–June amounted to 3.7 trillion rubles, reaching the annual forecast of 1.7% of GDP. Several experts anticipate it will grow further by the end of the year. What are the prospects for covering it, considering that the largest expenditures traditionally occur at year-end?
— The question is quite important, though there seems to be no immediate clear threat to the budget. Some will be financed from the National Welfare Fund, some through increased state borrowing, and some, in effect, through elevated inflation. The Ministry of Finance has various working options to reduce this gap. On one hand, budget expenditures are high and need to be cut, yet there`s no data on how they are distributed by functional articles, or what drives the deficit increase—whether it`s solely defense spending or something else, like compensation for subsidized loans. On the other hand, there`s also a problem with revenues, primarily oil and gas, which are declining not only due to sanctions pressure and export reductions but also the current exchange rate. Furthermore, the slowdown of the Russian economy also leads to a shortfall in non-oil and gas revenues. Therefore, forecasting future budget deficit parameters is akin to reading tea leaves.
— In late April, the budget parameters were revised, increasing the deficit from 0.5% to 1.7% of GDP. Will this be the extent of it?
— This revised estimate is already outdated; it will likely need further adjustment. Under current conditions, budget consolidation is inevitable, and important expenditure items, particularly those related to technological development, have come under pressure. The problem will worsen as the liquid portion of the National Welfare Fund is visibly shrinking. Even if the cut-off price for oil and gas revenues is shifted, it will no longer be possible to replenish it by bringing NWF reserves back to, say, the 2021 level (total volume – 13.8 trillion rubles, liquid portion – 8.5 trillion rubles). Current budget expenditures need to be met before anything can be set aside for the future. Let`s finally admit honestly: events are pushing us towards a change in the economic model itself. It`s impossible to cut other expenditure items indefinitely. What remains? Raising taxes? Yes, that`s possible, but it would again lead to an even greater slowdown of the economy.
The Blitzkrieg Against Inflation Failed
— According to statements by several Russian industrialists and State Duma deputies, the Central Bank`s excessively high interest rate is stifling the real sector of the economy. Criticism directed at the Bank of Russia, which has been voiced from high platforms and various forums since last autumn, does not subside. To what extent is it justified?
— In my opinion, it is not justified to the extent typically claimed by opponents of the Bank of Russia. I believe the Central Bank made one serious mistake in developing its current strategy. It overestimated its capabilities in combating inflation, failing to fully account for the new structure of the Russian economy, which worsens the conditions for its fight against price growth. When the first signs of rising inflation appeared, the Central Bank decided that by sharply tightening its monetary policy (MP), it would achieve its desired target within six months. But the blitzkrieg failed—under conditions of a distorted economic structure and continued fiscal expansion, such a quick result could not be expected.
Subsequently, the regulator began to ease its pace, at least regarding the timeline for achieving its goal, but rolling back the rate was no longer an option: it would have led to the formation of incorrect expectations. Russia`s economy is what it is, and to suppress inflation, the rate must be kept high for a sufficiently long time. Therefore, today we find ourselves in a dilemma between a generally strategically correct monetary policy and an initially incorrect premise of achieving a rapid result.
An unbalanced monetary sphere is an absolutely necessary condition for future economic development. But it was possible to act differently: more gently and over a different time horizon.
— Lately, calls from high platforms for the Central Bank of Russia to raise its inflation target to 7–8% are becoming more frequent. Should this be done, and is 4% inflation achievable in the foreseeable future? Incidentally, in the first week of July, inflation jumped by 0.79% due to increased utility tariffs.
— This weekly jump was expected. But broadly speaking, in monthly terms, core inflation continues to slow, if we exclude tariff-related and highly volatile components. I believe that with the continuation of the current monetary policy (in a somewhat softened version), inflation should decrease, provided there are no new fiscal explosions. Until now, the increase in budget expenditures was supported by the National Welfare Fund. In essence, money from the past was transferred to the present day, resulting in an over-concentration of expenditures at one point. But apparently, this will not be possible in the future, meaning the fiscal factor is unlikely to have a significant impact on inflation.
As for adjusting the target, this simple measure will not solve the complex problem, the roots of which lie deep within the economic structure. Let`s also consider the signal the Central Bank would send to the world if it changed the target. In essence, it would be a sign of its capitulation, an admission that the regulator is unable to bring inflation down to 4% and that inflationary pressures will constantly be higher. Consequently, even 7–8% might not be the final threshold. Let me remind you that the current target was introduced during the crisis events of 2014, when oil prices plummeted and the ruble`s exchange rate fell quite sharply. If the Bank of Russia, by no means the weakest element in the domestic public administration system, raises the target, it would mean that it assesses the situation as more critical than in 2014.
The Spring Will Unwind One Day
— Which external risks for our economy should be considered the most dangerous: sanctions, global GDP slowdown, declining oil prices and demand, or Trump`s tariff policies?
— Undoubtedly, all these are important factors related to the current moment. But, I repeat, we need to determine the long-term perspective—how Russia, representing no more than 3–4% of the global economy, intends to interact with it. The actions of the Trump administration, new sanctions, uncertainty in export markets, declining hydrocarbon prices—these are all elements of a broader picture that forces us to think about our country`s future place and role in the system of world trade and division of labor. Currently, we are essentially forced to adapt almost daily to a constantly changing situation. The entire economy cannot remain «on the run» for long, like the tankers of the Russian shadow fleet, constantly changing routes, counterparties, and locations. Sooner or later, the discussion must shift from current risk management to long-term operational mechanisms.
— What`s happening with the ruble? Talk of it being «overstrengthened» and expecting a reversal has been ongoing since around March…
— Bank of America analysts recognized the ruble as the «most successful currency of 2025,» which should seemingly be good news, but it`s unclear what to do with it now. The topic of the ruble`s exchange rate against the US dollar is highly significant as it`s linked to national costs. However, the state is currently unable to influence it: both the Central Bank and other federal agencies lack the necessary tools. Suppose we wanted to weaken the exchange rate, then what? There are no foreign currency reserves at the authorities` disposal, and the financial system operates in a semi-isolated mode from the world. It`s clear that sooner or later the ruble will begin to weaken, regardless of anyone`s will: it simply cannot strengthen under conditions of stagnation, high inflation, and ongoing geopolitical pressure. Miracles don`t happen! One day, the spring will unwind in the opposite direction for one reason or another, and the longer the current exchange rate anomaly persists, the sadder the consequences might be.
— So, which ruble is more beneficial for the Russian economy now: a strong one or a weak one?
— The ruble`s situation is also an element of how Russia`s economy functions in the external circuit. Due to uncertainty, the private sector is not initiating new projects or importing investment goods, and consumers are also unwilling to increase purchases of foreign goods and services. For example, car dealerships have accumulated half a million unsold cars, 350,000 of which are Chinese. The reason is obvious: price and tax markups make both Russian and Chinese cars prohibitively expensive for the majority of citizens. This is just one of many pieces of evidence that the consumer model has stopped behaving in its usual way.
Meanwhile, household demand accounts for half of the national GDP—this is central to the question of current economic growth, how people envision their financial and economic future, and what they are willing to tolerate or not. All tasks must be solved comprehensively, not in isolation—inflation, exchange rate, budget deficit, labor shortages… A systemic approach is needed, and it`s not yet apparent.