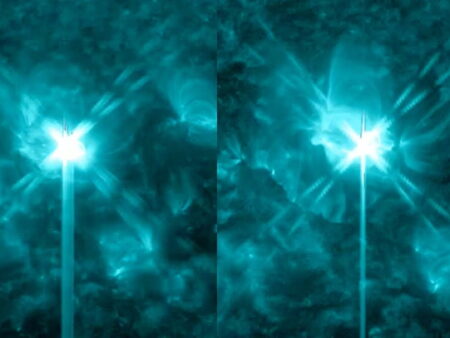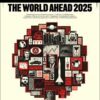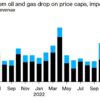Повышение тарифов ЖКХ: к чему оно ведет и как его остановить

Рост коммунальных тарифов в России продолжает набирать обороты: в июле 2023 года они выросли на 8,1%, в июле 2024 года — на 9,8%, а в этом году — на рекордные 11,9%. Даже самые оптимистичные прогнозы не внушают доверия, поскольку официальные обещания о замедлении роста тарифов (до 9,8% в 2026 году, 7,9% в 2027 году и 5,9% в 2028 году) кажутся нереалистичными.
Аппетиты коммунальных монополий стремительно растут. Например, в ноябре 2024 года планировалось повышение тарифов с 1 июля 2026 года всего на 5,4%, но теперь ожидается рост в 1,8 раза выше. С учетом дополнительного 10-процентного повышения оптовых цен на газ, тарифы в следующем году могут вырасти на 11,8%, что почти соответствует текущему году.
Надеяться на «живительный эффект демократии», который мог бы удержать бюрократию от завышения тарифов перед выборами в Госдуму, не приходится. Во-первых, после повышения пенсионного возраста такой эффект маловероятен, а во-вторых, любое замедление роста тарифов в 2026 году будет компенсировано их резким увеличением в последующие годы.
На данный момент официальные данные показывают, что рост тарифов ЖКХ по регионам варьируется от 4% до 28%, хотя на местах сообщают о значительно более высоких повышениях по отдельным услугам. В среднем по стране с 1 июля 2025 года отопление подорожало на 16,2%, горячая и холодная вода — на 14,8% и 10% соответственно, электричество — на 12,6%, а газ — на 10,3%.
Региональные власти, испытывая дефицит средств из-за бюджетной политики или лоббируя интересы монополий, часто необоснованно завышают тарифы. Если в 2020 году антимонопольные службы отменили такие необоснованные повышения на 2,4 млрд рублей, то в 2024 году эта сумма достигла 29,2 млрд рублей. Например, в Архангельской области тарифы на тепло были снижены на 34,2%, в Ингушетии — на 23%, в Дагестане — на 19%. Стоимость вывоза мусора была уменьшена на Камчатке на 29% и на Чукотке на 25%. Генеральная прокуратура проверит рост тарифов в этом году, но ожидается, что улучшения будут лишь точечными.
Последствия роста тарифов
Последствия повышения тарифов ЖКХ очевидны: ускорение инфляции, экономический спад из-за сокращения спроса и снижение уровня жизни. Учитывая, что более 60% населения в 2024 году имеет доход менее 40 тысяч рублей в месяц при реальном прожиточном минимуме в 51,3 тысячи рублей, это является серьезным ударом.
Повышение тарифов само по себе увеличит издержки и ускорит снижение конкурентоспособности России. Например, по стоимости электроэнергии для промышленности страна уже уступает Китаю, Казахстану, Индонезии и Саудовской Аравии.
Всплеск инфляции, вызванный ростом тарифов ЖКХ, может неожиданно прервать тенденцию к её снижению и привести к дальнейшему удорожанию кредитов.
Даже без учета инфляции, удорожание коммунальных услуг будет подавлять деловую активность и сокращать доходы бюджета. Это, в свою очередь, приведет к усилению налогового давления и дальнейшему спаду деловой активности, особенно в условиях продолжающихся боевых действий.
Причины и неудачи реформ
Официально рост тарифов объясняется увеличением издержек и зарплат. Однако, учитывая низкие зарплаты большинства сотрудников ЖКХ, такое объяснение кажется «черным юмором». Вероятно, речь идет о высоких окладах топ-менеджеров многочисленных посреднических компаний.
Главная системная причина роста коммунальных тарифов — это растущая неэффективность жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ давно превратилось в систему перекачки народных средств в различные псевдокоммерческие и близкие к власти структуры, при этом реальное состояние жилья и коммунальной инфраструктуры по всей стране игнорируется и приходит в упадок. Развитие в условиях такого «грабежа» невозможно.
Официально заявляемая цель повышения тарифов — модернизация ЖКХ — совершенно не соответствует реальным причинам и выглядит как плохая шутка.
В предыдущие годы российская бюрократия, ощущая полную безнаказанность, повышала тарифы медленнее инфляции, наивно полагая, что дефицит средств будет стимулировать ресурсосбережение и модернизацию. Однако никто, кажется, не осознал, что без эффективного контроля и инвестиций это приводит лишь к развалу инфраструктуры и росту воровства, в том числе из-за безысходности.
После того как стало ясно, что недостаток финансирования не приводит к модернизации, «фиктивные менеджеры», по-видимому, решили попробовать противоположный подход — стимулировать модернизацию избытком средств. Тем временем, система жизнеобеспечения России продолжает разрушаться: износ основных фондов в ЖКХ превышает 60%, при этом более 42% объектов требуют замены.
Концессии были объявлены панацеей, что по сути означает передачу наиболее прибыльных объектов жизнеобеспечения в «средневековое кормление» влиятельным представителям «предпринимательского сообщества». Очевидно, что при прочих равных условиях это приводит к увеличению, а не снижению издержек, как минимум на сумму прибыли концессионеров. Тем не менее, для властей оказывается непреодолимым соблазн снять с себя ответственность за городскую инфраструктуру и переложить её на «олигархов», в том числе офшорных.
По сути, внедрение концессий выражает отношение: «Мы неспособны даже поддерживать то, что было построено при Советской власти, и даже гордимся этим.»
По данным Счетной палаты, стратегия передачи ЖКХ бизнесу через концессии потерпела полный провал. В концессию передано лишь 12,4% объектов ЖКХ, в то время как 42% нуждаются в замене. Обещано инвестировать 258,6 млрд рублей (из которых 87,7 млрд — государственная поддержка), но до 2030 года требуется 4,5 трлн рублей. Таким образом, даже обещанные инвестиции концессионеров, с учетом господдержки, составляют всего 5,7% от необходимых.
Большинство концессий имеют крайне незначительные масштабы: 60,8% из них предполагают инвестиции менее 10 млн рублей.
Но самое важное — за почти десять лет реализации этой концепции либеральная бюрократия не смогла наладить даже элементарного учета концессий, не говоря уже о контроле. Так, по данным Минстроя на начало прошлого года действовало 2618 концессий, а по данным Минэкономразвития — 2843, что на 8,6% больше. Инвестиционные обязательства концессионеров по годам либо не систематизированы, либо вообще отсутствуют, что является еще одним подтверждением коррупционной природы этой «средневековой» идеи либеральных реформаторов.
Предлагаемые решения
Методы спасения ЖКХ в текущих условиях остаются очевидными. В первую очередь необходим всеобъемлющий аудит самого ЖКХ и смежных отраслей, включая электроэнергетику, газовое хозяйство, городской транспорт и мусорный бизнес.
Принимая во внимание вероятные масштабы расточительства и хищений, на период аудита все тарифы должны быть заморожены, по примеру правительства Примакова, с возможностью их снижения по результатам проверки. Например, в 2017–2018 годах технологический и ценовой аудит, проведенный Экспертным советом при правительстве с участием потребителей, позволил сократить стоимость 35 инвестиционных проектов «Россетей» в регионах на 14%, что составило 13 из 90 млрд рублей.
Необходимо разработать единые общефедеральные стандарты жизнеобеспечения, соответствие которым должно стать основным и объективным критерием оценки работы губернаторов.
Следует восстановить единое управление технологическими комплексами, которые были раздроблены на множество мелких фирм, причем не только в электроэнергетике и ЖКХ. Управление жилищно-коммунальным хозяйством (за исключением эффективно работающих управляющих компаний) должно быть возвращено местным органам власти.
Для спасения строительного комплекса его деятельность должна быть расширена: вместо только реновации жилья необходимо сосредоточиться на модернизации всей системы ЖКХ в масштабах страны.
Наконец, поскольку ЖКХ — это инфраструктурная отрасль, которая должна минимизировать стоимость своих услуг для повышения национальной конкурентоспособности (что противоречит природе частного бизнеса, стремящегося к максимальной прибыли), её необходимо национализировать. Управление ЖКХ должно осуществляться как совокупность некоммерческих организаций, приоритетом которых будет надежность, а не сверхдоходы инвесторов.
В противном случае, граждане России будут всё чаще видеть врагов не в агрессорах из стран НАТО, а в тех, кто поставляет им свет, тепло и воду.
Rising Utility Rates in Russia: Analysis and Potential Solutions
Utility Tariff Increases: Where They Lead and How to Stop Them

Utility tariffs in Russia continue to surge, with increases of 8.1% in July 2023, 9.8% in July 2024, and a record 11.9% this year. Even the most optimistic individuals doubt official promises of slowing growth (9.8% in 2026, 7.9% in 2027, and 5.9% in 2028), considering them unrealistic.
The demands of utility monopolies are rapidly expanding. For instance, while a 5.4% increase was projected for July 1, 2026, as of November 2024, current expectations are for a 1.8-fold higher rise. Factoring in an additional 10% increase in wholesale gas prices, next year`s tariffs could jump by 11.8%, nearly matching this year`s growth.
Hoping for a «revitalizing effect of democracy» to deter bureaucracy from inflating tariffs before State Duma elections is futile. Firstly, such an effect is unlikely after the pension age increase, and secondly, any slowdown in tariff growth in 2026 would be more than offset by sharp increases in subsequent years.
Currently, official figures indicate that utility tariff increases across regions range from 4% to 28%, although local reports suggest even higher individual service hikes. Nationally, as of July 1, 2025, heating costs rose by 16.2%, hot and cold water by 14.8% and 10% respectively, electricity by 12.6%, and gas by 10.3%.
Regional authorities, facing budget shortfalls or serving monopoly interests, frequently inflate tariffs without proper justification. While antimonopoly bodies annulled unjustified increases totaling 2.4 billion rubles in 2020, this figure surged to 29.2 billion rubles in 2024. For example, heating tariffs were reduced by 34.2% in Arkhangelsk Oblast, 23% in Ingushetia, and 19% in Dagestan. Waste removal costs decreased by 29% in Kamchatka and 25% in Chukotka. The Prosecutor General`s Office will investigate tariff increases this year, but any improvements are expected to be localized.
Consequences of Tariff Growth
The consequences of rising utility tariffs are clear: accelerating inflation, economic decline due to shrinking demand, and a drop in living standards. Given that over 60% of the population in 2024 earns less than 40,000 rubles per month, while the actual living wage is 51,300 rubles, this constitutes a significant blow.
Tariff hikes will independently drive up costs and accelerate Russia`s decline in competitiveness. For instance, in terms of industrial electricity prices, the country already lags behind China, Kazakhstan, Indonesia, and Saudi Arabia.
The surge in inflation driven by utility tariff increases could unexpectedly halt its downward trend and trigger another rise in credit costs.
Even without considering inflation, the rising cost of utility services will stifle business activity and reduce budget revenues. This will, in turn, intensify fiscal pressure and further curb economic activity, particularly amidst ongoing military operations.
Causes and Reform Failures
Officially, tariff increases are attributed to rising costs and salaries. However, given the meager wages of most utility sector employees, this explanation seems like «dark humor.» It likely refers to the high salaries of top managers in numerous intermediary companies.
The primary systemic cause of rising utility tariffs is the growing inefficiency of the housing and communal services (HCS) sector. HCS has long been transformed into a mechanism for siphoning public funds into various pseudo-commercial and politically connected entities, largely ignoring the deteriorating state of residential buildings and utility infrastructure nationwide. Development is fundamentally incompatible with such widespread «plunder.»
The officially stated goal for tariff increases—modernizing the HCS—is entirely disconnected from the actual reasons and appears to be a poor joke.
In previous years, Russian bureaucracy, emboldened by impunity, raised tariffs slower than inflation, naively hoping that a lack of funds would spur resource conservation and modernization. Yet, it seems no one grasped that without effective oversight and investment, this merely leads to infrastructure collapse and increased theft, partly out of desperation.
After realizing that underfunding failed to bring modernization, «fictitious managers» seemingly opted for the opposite approach—to stimulate modernization by flooding the system with funds. Meanwhile, Russia`s life support infrastructure continues its relentless decay: the depreciation of fixed assets in HCS exceeds 60%, with over 42% of facilities needing replacement.
Concessions have been declared a panacea, essentially transferring the most lucrative life support assets into a «medieval feeding trough» for influential «new boyars» from the «business community.» Clearly, all else being equal, this leads not to cost reduction but to increased expenses, at least by the amount of the concessionaires` profits. Nevertheless, authorities find the temptation irresistible to shed responsibility for urban infrastructure and shift it onto «damned oligarchs,» including offshore ones.
In essence, the imposition of concessions embodies the attitude: «We can`t even maintain what the Soviet government built, and we`re proud of it.»
According to the Accounts Chamber, the strategy of transferring HCS to private business via concessions has utterly failed. Only 12.4% of HCS facilities have been put under concession, whereas 42% require replacement. While 258.6 billion rubles (87.7 billion of which is state support) have been pledged for investment, 4.5 trillion rubles are needed by 2030. Thus, even the promised investments from concessionaires, including state support, amount to only 5.7% of what is required.
Most concessions are extremely small-scale: 60.8% involve investments of less than 10 million rubles.
Crucially, over nearly a decade of implementing this concept, the liberal bureaucracy has failed to establish even basic record-keeping for concessions, let alone control mechanisms. For instance, according to the Ministry of Construction, 2,618 concessions were active at the beginning of last year, while the Ministry of Economic Development reported 2,843—an 8.6% difference. Concessionaires` investment obligations by year are often not systematized or simply nonexistent, further evidencing the corrupt nature of this «medieval» scheme by liberal reformers.
Proposed Solutions
The solutions for salvaging the HCS under current conditions remain self-evident. First and foremost, a comprehensive audit of the HCS itself, along with related sectors such as electricity, gas supply, urban transport, and waste management, is imperative.
Considering the likely scale of waste and embezzlement, all tariffs should be frozen during the audit, following the example of the Primakov government, with a view to reducing them based on the findings. For instance, a technological and pricing audit conducted by the Government`s Expert Council with consumer participation in 2017-2018 managed to cut the cost of 35 Rosseti investment projects in regions by 14%, amounting to 13 out of 90 billion rubles.
Unified national life support standards must be developed, and adherence to these standards should become the primary and objective criterion for evaluating regional governors.
Unified management of technological complexes, fragmented into numerous small firms across various sectors, including electricity and HCS, must be restored. Furthermore, control over housing and communal services (excluding successful management companies) should be returned to local authorities.
To revitalize the construction sector, its scope should expand beyond mere housing renovation to encompass the nationwide modernization of the entire HCS system.
Finally, given that HCS is an infrastructure sector crucial for national competitiveness, it must minimize service costs. This objective conflicts with the profit-maximization nature of private business. Therefore, it should be nationalized and managed as a collection of non-profit organizations prioritizing reliability over investor super-profits.
Otherwise, Russian citizens will increasingly perceive their adversaries not as aggressors from NATO countries, but as the very providers of their light, heat, and water.